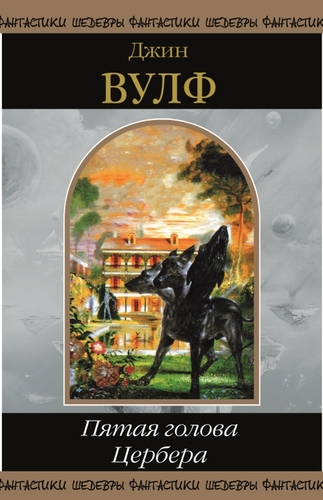Когда побеги снег накрыл, и филины кричат,
И в мерзлой чаще воет волк, и жрёт своих волчат.
Сэмюэл Тейлор Колридж. «Сказание о Старом Мореходе»
Нравилось нам это или нет, но в детстве нас с Дэвидом отправляли спать рано. Летом, к примеру, нам часто приходилось укладываться еще до захода солнца, а поскольку наша спальня находилась в восточном крыле дома и широкое окно, что выходило во внутренний дворик, было обращено к западу, яркий розоватый свет часами струился по комнате, пока мы с братом, развалившись на кроватях, наблюдали за искалеченной обезьянкой отца, слонявшейся по облезлому парапету, или же одна за другой делились историями на бесшумном языке жестов.
Спальня наша располагалась на последнем этаже, а окно было оборудовано витыми коваными ставнями, открывать которые нам строго-настрого запрещалось. Вероятно, причиной тому были опасения, что если ставни вдруг окажутся открытыми, то однажды дождливым утром (когда только и можно рассчитывать, что на крыше, обустроенной под своего рода сад наслаждений, никого не окажется) грабитель спустится вниз по верёвке и проберётся в нашу комнату.
Конечно же, этот предполагаемый и необычайно смелый преступник вряд ли стал бы вламываться в дом, чтобы просто похитить нас. Дети, будь то мальчики или девочки, ценились в Порт-Мимизоне крайне невысоко. Об этом я знал от своего отца, который некогда и сам промышлял подобной торговлей, но затем бросил это бесприбыльное дело. Правда или нет, но каждый (или почти каждый) знал какого-нибудь специалиста, который по разумной и невысокой цене мог достать всё, что душе заблагорассудится. По большей части таких людей интересовали дети бедняков и отпрыски беспечных родителей. Всего за несколько часов они могли доставить клиенту и темнокожую рыжеволосую девочку, и толстушку, и шепелявую, и светловолосого мальчугана вроде Дэвида, и темноволосого кареглазого мальчика вроде меня.
Сомневаюсь также, что тот воображаемый смельчак стал бы удерживать нас ради выкупа, несмотря даже на то, что в определенных кругах наш отец прослыл исключительным богачом. Тому было несколько причин, одной из которых было то, что лишь немногие знали о нашем с Дэвидом существовании, но и те искренне полагали, что отцу мы безразличны. Не могу судить с уверенностью, но одно знаю точно — отец ни разу не дал мне повода усомниться в своем равнодушии, хотя, конечно же, в те времена мысль о его убийстве меня еще не посещала.
А если эти доводы кажутся вам недостаточно убедительными, то могу лишь добавить: любой человек, знакомый с преступным миром, должен понимать, что для преступника, и без того вынужденного откупаться огромными взятками от тайной полиции, выманить деньги подобным путём — означало бы подвергнуть себя еще тысячам опустошительных атак. Пожалуй, это (вдобавок к страху, в котором он наверняка жил) и стало основной причиной того, что нас с братом так никогда и не похитили.
Жесткие железные ставни нашей старой спальни (в которой я и пишу сейчас эти строки) выкованы в форме асимметричных ивовых ветвей. В детстве они зарастали лианами серебристого кампсиса (давно выкорчеванного), которые взбирались по стене из внутреннего двора. Я всегда мечтал, как однажды они окутают окно полностью и скроют нас от солнечного света, мешавшего спать. К сожалению, этому так и не суждено было случится, потому что Дэвид, чья кровать стояла под самым окном, любил обрывать лианы и свистеть через их полые стебли, сооружая из четырех-пяти штук некое подобие свирели. Свист, конечно же, становился тем громче, чем больше Дэвид набирался смелости, и спустя время неизбежно привлекал внимание нашего наставника, мистера Миллиона. Мистер Миллион проникал в комнату абсолютно бесшумно, катясь на широких колёсах по неровному полу, но к тому моменту Дэвид уже успевал притвориться спящим. Свирели он прятал под подушку, в простынях, а иногда и под матрасом, но мистер Миллион всегда их находил.
До вчерашнего дня я никак не мог вспомнить, что же он делал с этими крохотными музыкальными инструментами после того, как отбирал их у Дэвида. В тюрьме, заточённый среди штормов и снегопадов, я часто занимал себя тем, что пытался восстановить в памяти эту деталь. Выбросить свирельки через окно во внутренний двор или сломать их было бы совершенно не в духе мистера Миллиона. Он никогда ничего не ломал нарочно и никогда ничего не портил. Я легко могу представить, как с едва заметным сожалением на лице (парящем на его головном экране и так похожем на лицо моего отца) он вытаскивает крошечные трубочки из укромного места и, развернувшись, выкатывается из комнаты. Но что же он делал с ними потом?
Вчера, как я и сказал (а слова — именно та вещь, которая вселяет в меня уверенность), я наконец-то вспомнил. Мистер Миллион беседовал со мной здесь, пока я работал, а когда позже он покидал меня, я проследил за его плавным движением сквозь дверной проём, и мне показалось, что нечто, некая характерная деталь, к которой я привык с самых ранних лет, исчезла. Я закрыл глаза и, отбросив весь скептицизм и любые попытки догадаться, что именно я должен увидеть, постарался все-таки вспомнить — и обнаружил, что исчезнувшей деталью была лёгкая вспышка, краткий металлический проблеск над головой мистера Миллиона.
Осознав это, я понял, откуда возникал этот блеск: от резкого взмаха руки, как если бы мистер Миллион салютовал мне, покидая комнату. Около часа я безуспешно искал объяснение этому жесту, но, в конце концов, был вынужден признать, что оно полностью уничтожено временем. Затем я попробовал вспомнить, не было ли в недалеком прошлом в коридоре за нашей спальней каких-нибудь вещей, исчезнувших к настоящему времени: занавесей, жалюзи, а может бытового прибора, который нужно было включать — чего угодно, способного объяснить этот жест. Но там ничего не было.
Тогда я вышел в коридор и тщательно осмотрел пол на предмет следов мебели, отодвинул старые обшарпанные гобелены и поискал крючки или вбитые в стену гвозди, а затем, изогнув шею, оглядел потолок. Спустя час я обратил внимание на саму дверь и заметил то, чего не увидел за все тысячи раз, что проходил мимо неё: как и остальные двери в этом старом доме, эту обрамляла массивная деревянная рама, верхняя часть которой выступала от стены достаточно, чтобы образовать узкую полку.
Я вытолкнул в коридор своё кресло и взобрался на него. Полка оказалась покрыта толстым слоем пыли, в которой обнаружились сорок семь свирелей моего брата и чудное скопление других мелочей. Многие из них я вспомнил, но некоторым так и не удалось вызвать никакого отклика в глубинах моего сознания...
Маленькое голубое яйцо в коричневую крапинку. Полагаю, птица свила гнездо среди лиан за нашим окном, а я или Дэвид разорили его лишь для того, чтобы снова быть ограбленными мистером Миллионом. Однако, ничего такого я не припоминаю.
Вот головоломка (сломанная), изготовленная из покрытых бронзой внутренностей различных мелких животных. А вот и навевающий дивные воспоминания причудливо украшенный ключ, один из тех, что продавались ежегодно, и целый год давали право своему владельцу беспрепятственно посещать некоторые залы городской библиотеки даже в неурочное время. Должно быть, мистер Миллион заметил, что по истечении срока действия ключа мы стали баловаться с ним, как с игрушкой, и отобрал его. Зато какие чудные воспоминания!
У отца имелась собственная библиотека, и сейчас она находится в моем полном распоряжении, однако в детстве нам категорически запрещалось туда входить. Не помню, как мал я был тогда, но помню, как стоял перед огромной резной дверью. Помню, как она распахнулась, и я увидел искалеченную обезьянку на отцовском плече, прижимавшуюся к его ястребиному лицу. Помню чёрный шарф, ярко-красный домашний халат и множество, множество полок, уставленных потрёпанными книгами, а также кучи записных книжек за спиной отца и тошнотворно-сладковатый запах формальдегида, исходящий из лаборатории, вход в которую прятался за раздвижным зеркалом.
Я не помню, ни что он тогда говорил, ни кто постучал в дверь (я или кто-то другой), помню лишь, что после того, как она закрылась, красивая дама в розовом склонилась ко мне и заверила, что отец собственноручно написал все книги, которые я только что видел, и я нисколько не засомневался в её словах.
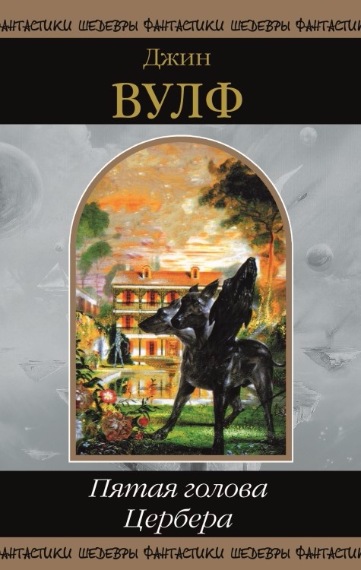
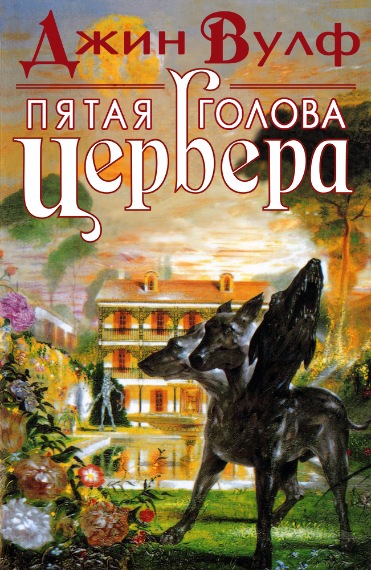






 облако тэгов
облако тэгов